Лилия Ященко
Экспедиция Колосова
«Фотография как художественное произведение во все времена должна была отстаивать своё право на жизнь» — Г. Колосов
Имя Георгия Колосова настолько известно в фотографическом мире, что едва ли этого человека нужно представлять читателям. По признанию коллег, он – один из ныне живущих классиков, яркий представитель пикториальной фотографии и её теоретик. Остальное Георгий Колосов расскажет о себе и о фотографии сам.
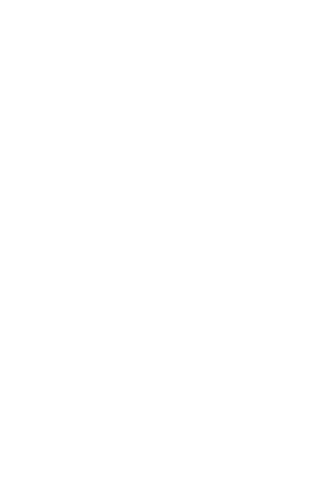
Георгий Колосов
Часть первая
О себе
О себе
«Глаз постепенно открывался, как диафрагма в объективе»
Начал я фотографировать, не считая активного баловства в школе, в конце1975 года. Взялся за фотокамеру, чтобы фиксировать свои байдарочные подвиги, – туризм был тотальной страстью научно-технической интеллигенции тех лет. Сразу выяснилось, что я не могу не лепить каких-то форм и композиций, что бы я ни снимал. Это меня и захватило. Снимал преимущественно портреты, как предполагали это тогдашние образцы, вполне дикие: либо с экспрессивным кино-светом, либо – с 3–5 источниками, а-ля фотоателье. Однако даже при самых глубоких контактах с человеком мне не нравилось то, что я делаю: именно из-за характера изображения.
В 1978 году я попал в фотоклуб «Новатор» к своему дорогому учителю Георгию Николаевичу Сошальскому. Началась новая жизнь. В его мастерской я увидел старинные каталоги, узнал, что такое картинная фотография. Для меня, типичного шестидесятника, увиденное стало выходом из тупика. Многое в 60-х открывалось нового, чего в глухое сталинское время не показывали вообще. Я успел хорошо впитать живопись и немое кино, поэтому новая фотоинформация упала на взрыхленную почву.
В начале 1979 года сделал первый монокль, узнав, кстати, из какой-то очень старой статьи, что на малоформатной камере это невозможно. С детства – фрондёрский дух: ах, нельзя? – значит, можно! Тут и произошло короткое замыкание с искрой, от которой разгорелся пожар, тлеющий до сих пор.
Дальше происходило активное варение в фотоклубе «Новатор», который был в своё время настоящей фотоакадемией. Организовали его в 1961 году два выдающихся мастера прикладной фотографии – Александр Владимирович Хлебников и Георгий Николаевич Сошальский. В первые годы в клубе, который насчитывал тогда более трёхсот членов, секцию натюрморта вёл Хлебников, общий фотографический семинар – Сошальский, секцию репортажа – Борис Всеволодович Игнатович, секцию пейзажа – Сергей Кузьмич Иванов-Алилуев. Нередко заглядывали Василий Иванович Улитин и Абрам Петрович Штеренберг. То есть наставников – не классиков там не было! Изобразительная культура – это было, увы, то единственное, что могли донести до нас учителя, поскольку о свободном творчестве, особенно в фотографии – пропагандистской машине того времени, – речи быть не могло. Зато фотографическую форму отцы-новаторы укоренили прочно.
Помню, как я прибегал в Староконюшенный переулок к Сошальскому не реже одного раза в неделю, всегда с новыми портретами. Однажды приношу, как мне казалось, шедевр: молодая женщина, на лице которой без преувеличения – шекспировская трагедия. Сошальский смотрит на фотографию и говорит: «Георгий, что за флюс у неё на щеке?». Вздыхаю. Учителю почти 90 лет без признаков старости, у него изумительное дворянское лицо и соответственное обхождение. Представить, что тут могут быть какие-то подвохи, невозможно. Но, может, он всё-таки чего-то уже не чувствует? Естественно, внутренне не соглашаюсь, – не вижу я флюса! Проходит примерно месяц моих визитов, и я отмечаю, что скользящий свет действительно что-то вздул на щеке. Проходит ещё месяца полтора, и я не понимаю, как этого можно было не видеть! Так постепенно глаз открывался, как диафрагма в объективе…
…Тональная культура лежит в основе старой фотографии и позволяет с первого взгляда отличить старый снимок от современного, а также легко разоблачает современную печать со старых негативов – рваным пространством. Поэтому без тональной культуры невозможна чёрно-белая ландшафтная фотография. Полноценная портретная фотография, когда нужно передать объёмы лица, – тоже невозможна. Тональная цельность изображения – главное сокровище, которое я вынес из «Новатора».
…В 1980 году я попал на Русский Север, ещё сохранивший живые черты допетровских времён. По природе я – существо ностальгическое. С детства, сколько себя помню, мне была присуща жажда другого времени. Я всегда искал следы то начала века, то ещё более отдалённой по времени России, и когда такая натура предстала перед моими глазами, конечно же, я стал её пленником. Длилось это 11 лет, пока не иссякло и внутри, и, к сожалению, вовне – сейчас русский Север, как живая жизнь, совсем исчез. Все отпуска тех лет мы с одноклубниками проводили в фотоэкспедициях. В 1991 году состоялась последняя.
…В 1990 году я крестился и стал активно входить в церковную жизнь. Творческий зуд уже тогда был мне чужд, сейчас он и вовсе чужд, – внутренне нежелателен. Я понимал тогда, что, как и всякая страсть, это разрушительно. Однако при этом совершенно неожиданно начались два радикально новых для пикториализма цикла. Первый я начал снимать в 1992 году и назвал его «Всякое дыхание» – природный мир, снятый с расстояния вытянутой руки, – совсем неожиданный, не такой, каким мы его видим. Он снимался примерно три года, возле дома и за городом – листья и стебли, стихии воды, ветра и огня. Получились странные фотографии. Часть их экспонировалась в Манеже на Фотобиеннале–2002, когда одной из тем был «Ландшафт». Там же был представлен и «Русский Север».
Второй большой цикл «Чудотворец» сейчас тоже подходит к концу – это крестный ход из Вятки на реку Великую к месту явления иконы Святителя Николая в 1383 году. Первый раз я прошёл с крестным ходом – пять дней, 160 км – в 1992 году, отчасти как фотограф, отчасти как паломник. Из 9 катушек не напечатал ни одной карточки! На следующий год решил: зачем мне там фотография? Взял с собой только «северную» Смену с моноклем 28 мм, решил использовать её и как широкоугольное баловство вблизи. Что-то снимал с полуметровым тросиком в кармане, когда камера висела на груди, что-то – с расстояния вытянутой руки. Когда увидел результаты, скажу откровенно: я их не понял. Небрежно сделал первую распечатку, ухитрился даже поцарапать некоторые негативы, но когда стал показывать, услышал: «Ты хоть понимаешь, что снял?» Постепенно до меня самого стало доходить, что же произошло, и в 1994 году я уже чувствовал себя обязанным дополнять этот материал, что до сих пор и делаю. В 2003 году я побывал в Вятской губернии уже в двенадцатый раз. В результате сложилась – не выставка, не книга, – какая-то необычайная картина народного церковного тайнодействия, в самых разных проявлениях: в дороге, на отдыхе, во время молебнов.
Что нового в этих циклах? Их пикториальная нетрадиционность заключается в том, что в данном случае фотограф настаивает на фотографической природе этих вещей. Изобразительное, картинное начало уже не является первичным, оставаясь общим признаком этих работ. Первичной является натура. Таким образом, пикториализм возвращается сегодня в лоно чистой фотографии. Кроме того, оба цикла весьма протяжённые. «Чудотворец» насчитывает более ста листов, которые не стыдно показывать. В нём доминирует полиэкранное, отчасти даже кинематографическое мышление, когда сначала меняются сюжеты, потом возникают их повторы, но совсем в ином ключе. Во «Всяком дыхании» преобладают, если можно так сказать, визуально-музыкальные мотивы с отражением неких странностей в природе, тоже повторяющихся. Серийность, цикличность – ещё одна пикториальная новость сегодня.
…Параллельно в Москве я снимал портреты. Разные интересы вспыхивали и гасли, но портрет я не оставлял никогда. И до сих пор он влечёт меня как самое неожиданное, странное и многозначительное в фотографии. Портретная съёмка – единственное, что ещё удерживает меня в фотографически активной фазе. После каждой проявки, – контактов и контролек я не печатаю, – вижу чудо! – то, чего не видел в павильоне. Казалось бы, портрет снимается постановочно, и будто бы всё заранее организовано, тем не менее, в результате обычно получается не то, что я видел. Парадокс, но чем больше портретное изображение кажется мне первоначально организованным, тем неожиданнее оно в итоге – по своему выражению, по общему глубинному смыслу.
В 1978 году я попал в фотоклуб «Новатор» к своему дорогому учителю Георгию Николаевичу Сошальскому. Началась новая жизнь. В его мастерской я увидел старинные каталоги, узнал, что такое картинная фотография. Для меня, типичного шестидесятника, увиденное стало выходом из тупика. Многое в 60-х открывалось нового, чего в глухое сталинское время не показывали вообще. Я успел хорошо впитать живопись и немое кино, поэтому новая фотоинформация упала на взрыхленную почву.
В начале 1979 года сделал первый монокль, узнав, кстати, из какой-то очень старой статьи, что на малоформатной камере это невозможно. С детства – фрондёрский дух: ах, нельзя? – значит, можно! Тут и произошло короткое замыкание с искрой, от которой разгорелся пожар, тлеющий до сих пор.
Дальше происходило активное варение в фотоклубе «Новатор», который был в своё время настоящей фотоакадемией. Организовали его в 1961 году два выдающихся мастера прикладной фотографии – Александр Владимирович Хлебников и Георгий Николаевич Сошальский. В первые годы в клубе, который насчитывал тогда более трёхсот членов, секцию натюрморта вёл Хлебников, общий фотографический семинар – Сошальский, секцию репортажа – Борис Всеволодович Игнатович, секцию пейзажа – Сергей Кузьмич Иванов-Алилуев. Нередко заглядывали Василий Иванович Улитин и Абрам Петрович Штеренберг. То есть наставников – не классиков там не было! Изобразительная культура – это было, увы, то единственное, что могли донести до нас учителя, поскольку о свободном творчестве, особенно в фотографии – пропагандистской машине того времени, – речи быть не могло. Зато фотографическую форму отцы-новаторы укоренили прочно.
Помню, как я прибегал в Староконюшенный переулок к Сошальскому не реже одного раза в неделю, всегда с новыми портретами. Однажды приношу, как мне казалось, шедевр: молодая женщина, на лице которой без преувеличения – шекспировская трагедия. Сошальский смотрит на фотографию и говорит: «Георгий, что за флюс у неё на щеке?». Вздыхаю. Учителю почти 90 лет без признаков старости, у него изумительное дворянское лицо и соответственное обхождение. Представить, что тут могут быть какие-то подвохи, невозможно. Но, может, он всё-таки чего-то уже не чувствует? Естественно, внутренне не соглашаюсь, – не вижу я флюса! Проходит примерно месяц моих визитов, и я отмечаю, что скользящий свет действительно что-то вздул на щеке. Проходит ещё месяца полтора, и я не понимаю, как этого можно было не видеть! Так постепенно глаз открывался, как диафрагма в объективе…
…Тональная культура лежит в основе старой фотографии и позволяет с первого взгляда отличить старый снимок от современного, а также легко разоблачает современную печать со старых негативов – рваным пространством. Поэтому без тональной культуры невозможна чёрно-белая ландшафтная фотография. Полноценная портретная фотография, когда нужно передать объёмы лица, – тоже невозможна. Тональная цельность изображения – главное сокровище, которое я вынес из «Новатора».
…В 1980 году я попал на Русский Север, ещё сохранивший живые черты допетровских времён. По природе я – существо ностальгическое. С детства, сколько себя помню, мне была присуща жажда другого времени. Я всегда искал следы то начала века, то ещё более отдалённой по времени России, и когда такая натура предстала перед моими глазами, конечно же, я стал её пленником. Длилось это 11 лет, пока не иссякло и внутри, и, к сожалению, вовне – сейчас русский Север, как живая жизнь, совсем исчез. Все отпуска тех лет мы с одноклубниками проводили в фотоэкспедициях. В 1991 году состоялась последняя.
…В 1990 году я крестился и стал активно входить в церковную жизнь. Творческий зуд уже тогда был мне чужд, сейчас он и вовсе чужд, – внутренне нежелателен. Я понимал тогда, что, как и всякая страсть, это разрушительно. Однако при этом совершенно неожиданно начались два радикально новых для пикториализма цикла. Первый я начал снимать в 1992 году и назвал его «Всякое дыхание» – природный мир, снятый с расстояния вытянутой руки, – совсем неожиданный, не такой, каким мы его видим. Он снимался примерно три года, возле дома и за городом – листья и стебли, стихии воды, ветра и огня. Получились странные фотографии. Часть их экспонировалась в Манеже на Фотобиеннале–2002, когда одной из тем был «Ландшафт». Там же был представлен и «Русский Север».
Второй большой цикл «Чудотворец» сейчас тоже подходит к концу – это крестный ход из Вятки на реку Великую к месту явления иконы Святителя Николая в 1383 году. Первый раз я прошёл с крестным ходом – пять дней, 160 км – в 1992 году, отчасти как фотограф, отчасти как паломник. Из 9 катушек не напечатал ни одной карточки! На следующий год решил: зачем мне там фотография? Взял с собой только «северную» Смену с моноклем 28 мм, решил использовать её и как широкоугольное баловство вблизи. Что-то снимал с полуметровым тросиком в кармане, когда камера висела на груди, что-то – с расстояния вытянутой руки. Когда увидел результаты, скажу откровенно: я их не понял. Небрежно сделал первую распечатку, ухитрился даже поцарапать некоторые негативы, но когда стал показывать, услышал: «Ты хоть понимаешь, что снял?» Постепенно до меня самого стало доходить, что же произошло, и в 1994 году я уже чувствовал себя обязанным дополнять этот материал, что до сих пор и делаю. В 2003 году я побывал в Вятской губернии уже в двенадцатый раз. В результате сложилась – не выставка, не книга, – какая-то необычайная картина народного церковного тайнодействия, в самых разных проявлениях: в дороге, на отдыхе, во время молебнов.
Что нового в этих циклах? Их пикториальная нетрадиционность заключается в том, что в данном случае фотограф настаивает на фотографической природе этих вещей. Изобразительное, картинное начало уже не является первичным, оставаясь общим признаком этих работ. Первичной является натура. Таким образом, пикториализм возвращается сегодня в лоно чистой фотографии. Кроме того, оба цикла весьма протяжённые. «Чудотворец» насчитывает более ста листов, которые не стыдно показывать. В нём доминирует полиэкранное, отчасти даже кинематографическое мышление, когда сначала меняются сюжеты, потом возникают их повторы, но совсем в ином ключе. Во «Всяком дыхании» преобладают, если можно так сказать, визуально-музыкальные мотивы с отражением неких странностей в природе, тоже повторяющихся. Серийность, цикличность – ещё одна пикториальная новость сегодня.
…Параллельно в Москве я снимал портреты. Разные интересы вспыхивали и гасли, но портрет я не оставлял никогда. И до сих пор он влечёт меня как самое неожиданное, странное и многозначительное в фотографии. Портретная съёмка – единственное, что ещё удерживает меня в фотографически активной фазе. После каждой проявки, – контактов и контролек я не печатаю, – вижу чудо! – то, чего не видел в павильоне. Казалось бы, портрет снимается постановочно, и будто бы всё заранее организовано, тем не менее, в результате обычно получается не то, что я видел. Парадокс, но чем больше портретное изображение кажется мне первоначально организованным, тем неожиданнее оно в итоге – по своему выражению, по общему глубинному смыслу.
Часть вторая
О фотографии
О фотографии
«Со временем мои взгляды на фотографию менялись…»
Вы считаете, современная фотография выбирает правильный вектор, когда выражает замыслы не иначе как серией снимков? Разве один выдающийся кадр не может быть самодостаточным?
Он должен быть самодостаточным, особенно, если речь идёт о пикториализме. Принцип картинности здесь сохраняется, но уже не ставится задача сделать единичную картину. Современные пикториалисты создают много картинных фотографий на определённую тему, – столько, сколько требуется сообразно её развитию. Это относится как к декоративным вещам, – когда находится некая форма и разрабатывается на разных сюжетах, – так и к темам в классическом понимании.
Живопись и фотография для Вас принципиально разные виды деятельности или Вы причисляете фотографию к одному из видов изобразительного искусства?
Фотография разнообразна и чрезвычайно многофункциональна, поэтому едва ли имеет смысл давать универсальную оценку всей фотографии. По большей части она трудится там, где востребована, – будь то фотография моды или острая пресс-фотография из горячих точек. Однако есть свойство, объединяющее все виды фотографии, и когда оно исчезает, фотография перестаёт быть самой собой. Суть фотографии – снимок с натуры. Как бы мы ни создавали фотоизображение, – организовывая ситуацию или подглядывая, фиксируя случайные детали или строго выстраивая, снимая форматной аппаратурой, которая воспроизводит каждую песчинку, или моноклем, который убирает детали и мыслит не поверхностью, а пространством, – всё равно. Нет первичности натуры, – нет фотографии. Повторю, что современный пикториализм как тенденция – это возвращение картинной фотографии к живой натуре. Не только у меня, почти у всех моих санкт-петербургских, московских, минских, орловских, калужских и других соременников. Живопись – не натуралистическая, но идущая по тому же пути, – от натуры, – для меня не менее драгоценна. Она может позволить себе божественный произвол в средствах, изображая то, чего физически не существовало. Деятельность другая, а цель одна.
Вы считаете, что создаёте картины или фотографии?
Наверное, так: картину средствами фотографии. Конечно, я говорю на языке, который не сводим к опыту живописи. Однако наше визуальное восприятие универсально: что живопись, что светописи. Как пикториалист я оглядываюсь на законы восприятия, наверное, больше, чем фотограф прессы, хотя в последние годы, как ни странно, использую и опыт пресс-фотографии. Для одних фотография – способ самовыражения, для других – возможность наблюдения за действительностью, для третьих – средство заработать.
Что фотография для Вас? Почему Вы ею занимаетесь?
По генерации я – клубный фотограф, свободнее не бывает. В нашем и в западном понимании – любитель в чистом виде, потому что фотографией почти не зарабатываю. Когда я делал первые светописные шаги, мне очень хотелось создавать изображения, – глубокие и гармоничные, ценные в моих глазах независимо от авторства. С тех пор мало что переменилось. Как куратор многих выставок Вы знаете, почему одну фотографию включают в экспозицию, а другую откладывают в сторону.
Что должно быть в фотографии, чтобы её увидели миллионы?
Первое и главное, на что я смотрю, – есть ли у фотографии форма. Нет формы, – нет фотографии как художественного произведения. Кстати, для фотографа настолько существенно чувство композиции, что я могу утверждать необычайно дерзкую вещь: в среднем(!) у состоявшихся фотографов композиция явно лучше, чем у состоявшихся живописцев. Очевидно, потому что у живописцев достаточно много других изобразительных средств. У фотографа же, если нет композиции, значит, нет вообще ничего. Однако композиция – не единственное, что должно быть в фотографии. Решающе важно, насколько форма сообразна сюжету. Что можно «вычитать» из данной фотографии? Насколько её тема совпадает с идеей выставки? Окажется ли сюжет новым для зрителя? Вписывается ли фотография в экспозицию визуально? Бывает, не хватает какой-нибудь смысловой перебивки или просто яркого пятна. Работа куратора-экспозиционера настолько симфонична, что ему, наверное, стоило бы изучать оркестровые партитуры. Для меня здесь бесценным стал зрительский опыт в немом кино с его ключевым понятием «монтаж».
Впрочем, мои взгляды на фотографию со временем менялись…
В зависимости от чего?
В зависимости от фотографического и человеческого опыта. На первоначальном этапе фотография была для меня прежде всего формой. Потом, глядя больше не на свою фотографию, а на чужую, я начал различать в ней драматургию, стал расширяться ценностный круг сюжетов, стилей, жанров, направлений. Теперь, двадцать пять лет спустя, могу сказать, что для меня не только в фотографии, в искусстве вообще, самое интересное – это тайна. Фотография по природе своей – таинственный проводник от натуры к зрителю. Это свойство и выделяет её в ряду других изобразительных искусств, может быть, потому, что у фотографа меньше возможностей вмешиваться в изображение, но при этом величайшая иллюзия – думать, что фотография изображает натуру так, как мы её видим! Она – документ лишь в том смысле, что свидетельствует о наличии натуры. Образ предмета – прерогатива фотографа. Мистика вневременного в этом образе для меня – самое интересное. И в своих работах, и в чужих. Если говорить об оптическом пикториализме – фотографии, сделанной мягкорисующей оптикой, то у неё особый мистический ключ. Если обычную фотографию можно считать проводником от натуры к зрителю, то оптический пикториализм – это мистический сверхпроводник.
Когда Вы снимаете крестный ход, не испытываете неловкости: молитва – процесс интимный, при такой съёмке надо проявлять особую деликатность?
Ловкость или неловкость, если, конечно, фотограф не хам, зависит от того, в церкви он сам или вне её. Если он – человек церкви – одно, если, как у нас говорят, «наёмник» – другое. Но первый должен непременно осознать свой труд как служение, и тогда – «Дерзай, чадо!», а второму, хоть он сто раз профессионал, никогда не понять, на что стоит глядеть, на что – нет, ибо внешнее в церкви – ещё не церковь. Впрочем, деликатность, как и знание предмета съёмки, – о чём мы забываем чаще всего, – обязательны для всех. Известную неловкость на крестном ходе первое время я очень даже ощущал, и, несомненно, настораживал других. Но через год сам отснятый материал, автором которого я себя ни секунды не считал и не считаю, заставил меня осознать сей труд как долг, вменённый свыше. И в дальнейшем, понятно, не задевая личностей, через деликатность приходилось переступать, а иногда снимать и вопреки собственному желанию. Однако несколько лет я был единственным, кто приезжал на Вятку из Москвы, – а это аргумент. Когда окружающим стало ясно, что я прежде паломник, а потом уже фотограф, то и отношение ко мне стало более спокойным. Позже оно испортилось ко всем фотографам вообще, поскольку там появилось несколько иностранцев и совсем явных профессионалов-москвичей, которые стали серьёзным раздражающим фактором.
Раздражение возникает потому, что съёмка ведётся явно с коммерческой целью?
С подозрительной целью, – во-первых, и здесь ещё сильны страхи времён гонений на церковь, и то, что снимают посторонние, – во-вторых. К своим и непрофессионалам отношение куда как более мирное. Нужно также понимать, что фотограф этому, как вы сказали, «интимному процессу» – молитве – не мешать не может, поэтому не просто вживание в церковь, но и минимизация средств, – в смысле шума и объемов аппаратуры, – необходима здесь как нигде. Не могу не сказать, уже как человек церкви, что были несправедливости и по отношению к фотографам, – увы, «по маловерию нашему».
Вы начали говорить о мистике в фотографии: на Востоке, например, люди не разрешают их фотографировать – считается, что снимок отнимает частичку души. Вы тоже приверженец мистической точки зрения?
Известно, что существуют экстрасенсы, способные по маленькой фотографии понять, жив человек или нет. Некоторые могут сказать, когда человек умер. Я даже знаю случай, когда сказали, кто человеку в этом «помог», глядя на фотографию ушедшего. Прецедент в данном случае – доказательство. Какая-то часть человека, несомненно, переходит на изображение, но теряет при этом человек или приобретает – это ещё вопрос. Все зависит от того, кто снимает, и что снимает. Если с любовью и во славу Божью – какие потери? Для христиан никаких запретов на фотографию в опыте церкви нет – скорее, наоборот. Фотография появилась на Афоне – не где-нибудь! – уже в 1856 году, и привёз её туда один из санкт-петербургских профессоров. Огромный фотоархив Святой Горы создан трудами монахов русского Свято-Пантелеймонова монастыря. На нашем «северном Афоне» – Валааме в начале XX века над фотографией трудились 18 монахов – целый фотоцех! Великие святые – Амвросий Оптинский, Иоанн Кронштадский, Силуан Афонский – фотографировались совершенно свободно. Феофан Затворник сохранил фотоаппарат даже в затворе! Среди его обширного инструментария, – слесарного, столярного, художественного, – был и фотографический аппарат. То есть, святые, духовный опыт которых вне сомнения, ничуть не страшились фотографии. В конце концов, без воли Божьей с нами ничего дурного не произойдёт, кто ни напади – нечисть или фотограф. «Боящийся несовершен в любви», – сказал апостол Иоанн.
Бывает, что Вы как фотограф не любите других фотографов, – тех, например, кто исповедует другую фотографию или снимает крестный ход в коммерческих целях?
У меня нет и не будет никаких фобий по отношению к другим фотографам. Если кто-то фотографию «использует», мне скорее его жаль. Другое дело результаты: многое из того, что мы сегодня видим, – пошло, омерзительно, непристойно. Сплошь и рядом это обложки журналов. Некоторые труды, в том числе таких знаменитостей, как недавно представленный в Доме фотографии японец, заставляют думать, что фотография по своей мерзости уже составляет конкуренцию телевидению!
Вам не кажется, что сегодня фотография в большей степени используется для зарабатывания денег, нежели для создания художественных произведений?
Но ведь это, увы, её почти родовое свойство. Фотографию очень рано начали «использовать». Как художественное произведение она во все времена должна была отстаивать себя, доказывая своё право на жизнь. И не только в России – во всем мире художники светописи творчеством ничего не зарабатывали, и прекрасно – тем свободнее они были. Другое дело, что за рубежом позднее за фотокартины начали платить. Нам в России это не грозит, но творчества от этого не убудет. Кстати, не припомню, чтобы кому-то удавалось соединить бизнес и творчество. Даже великие – Лобовиков, Андреев, Судек – держали свои ателье только для того, чтобы свести концы с концами, и ничего в них не творили.
Вы разделяете фотографические жанры на высокие и низкие? Например, о спортивном или социальном репортаже нередко говорят, что фотографу важно лишь оказаться в нужное время в нужном месте…
Для меня как зрителя наибольшую ценность и, соответственно, возможность наибольшей глубины представляют жанры, которые обращены к природе и к человеку как вершине Творения. Здесь возможность таинственного наполнения представляется мне наибольшей, а в человеке – максимальной. Исчезновение портрета как жанра, – а он исчез, смею это утверждать, – свидетельствует о его сложности и особенности. За всю жизнь я не встречал фотографа, который всецело посвятил бы себя портрету как жанру, – не внутри какого-то проекта, не с какой-то определённой целью, – а всю жизнь снимал бы людей, причём, не фото на память, а именно портреты. Портрет я выделяю особо. Что касается других жанров или направлений в фотографии, то думаю, что одно профессиональное занятие по лёгкости или сложности не отличается от другого. Повсюду есть выдающиеся результаты, которые требуют исключительной квалификации и чрезвычайного больших усилий, по крайней мере, на этапе становления фотографа и овладения мастерством. Один французский фотограф, – к сожалению, не помню его имени, – объездил полмира и выпустил девять книг о природе. Это невероятные усилия в экспедициях, можно сказать, подвиги ради того, чтобы попасть в определённые места, и – настоящие изобразительные шедевры! Он снимает цветы, птиц и другие природные феномены. Казалось бы, обезьян можно сфотографировать и в зоопарке, но он снимает невиданное. Назвать это лёгким жанром невозможно. Вспомним некоторые снимки десятилетней давности от наших корифеев спортивной фотографии. Для того, чтобы сделать такие кадры, нужны были годы наблюдений! Необычайная снайперская точность, улавливание пластики, которая наиболее полно выражает данное спортивное событие. Ничего простого здесь нет. В этом смысле я не выделяю и портрет. Думаю, нужны равные усилия для того, чтобы научиться изображать человеческое лицо, так же хорошо, как и природу, например. Только на ландшафте у фотографа должно быть симфоническое мышление, а в портрете, скорее, камерное, но с такими нюансами, которых нет больше нигде.
В экспедициях Вам часто приходилось преодолевать дискомфорт, лишения, трудности? Одну фотографию можно за день сделать в студии, а за другой надо идти сотни километров…
Северные экспедиции совершались тогда, когда за плечами был длительный туристический опыт, причём серьёзных путешествий, поэтому заметного дискомфорта я не испытывал. Конечно, таскание аппаратуры и жизнь почти без сна – это нелегко. Крестный ход – не только для меня, для всех идущих – немалый телесный подвиг, а фотография – дополнительная нагрузка, если бегать и снимать, в то время как остальные отдыхают. Это тяжело физически, но ничего сверхъестественного преодолевать не приходилось. Вообще, всякая экспедиция – это труд. В этом смысле, работать в павильоне, несомненно, комфортнее. Но там есть другие сложности.
Когда паломники совершают крестный ход, они действительно питаются только хлебом и водой?
Да. Большинство идущих – будущие причастники, поэтому три дня – строгий пост и 90 километров пути. Спать приходится по два-три часа в сутки. Чем меньше ешь, тем легче идти. Особых трудностей в этом нет. Если есть сухари или зерновой хлеб и пить воду, это облегчает жизнь, а не затрудняет её. Если ничего не есть совсем, недосыпание переносится легче, всё легче…
В ста метрах от места, где мы, сидя на лавочке, беседовали о фотографии, громыхала Тверская, – с её сиренами, пробками, иномарками и автосигнализациями. Я слушала этого человека и думала: откуда он? Из какой жизни? Во всяком случае, не из той суеты, которая сейчас на расстоянии ста метров проносится мимо. При такой внутренней жизни только и можно, наверное, служить сторожем в храме и сосредотачиваться на творчестве.
Он должен быть самодостаточным, особенно, если речь идёт о пикториализме. Принцип картинности здесь сохраняется, но уже не ставится задача сделать единичную картину. Современные пикториалисты создают много картинных фотографий на определённую тему, – столько, сколько требуется сообразно её развитию. Это относится как к декоративным вещам, – когда находится некая форма и разрабатывается на разных сюжетах, – так и к темам в классическом понимании.
Живопись и фотография для Вас принципиально разные виды деятельности или Вы причисляете фотографию к одному из видов изобразительного искусства?
Фотография разнообразна и чрезвычайно многофункциональна, поэтому едва ли имеет смысл давать универсальную оценку всей фотографии. По большей части она трудится там, где востребована, – будь то фотография моды или острая пресс-фотография из горячих точек. Однако есть свойство, объединяющее все виды фотографии, и когда оно исчезает, фотография перестаёт быть самой собой. Суть фотографии – снимок с натуры. Как бы мы ни создавали фотоизображение, – организовывая ситуацию или подглядывая, фиксируя случайные детали или строго выстраивая, снимая форматной аппаратурой, которая воспроизводит каждую песчинку, или моноклем, который убирает детали и мыслит не поверхностью, а пространством, – всё равно. Нет первичности натуры, – нет фотографии. Повторю, что современный пикториализм как тенденция – это возвращение картинной фотографии к живой натуре. Не только у меня, почти у всех моих санкт-петербургских, московских, минских, орловских, калужских и других соременников. Живопись – не натуралистическая, но идущая по тому же пути, – от натуры, – для меня не менее драгоценна. Она может позволить себе божественный произвол в средствах, изображая то, чего физически не существовало. Деятельность другая, а цель одна.
Вы считаете, что создаёте картины или фотографии?
Наверное, так: картину средствами фотографии. Конечно, я говорю на языке, который не сводим к опыту живописи. Однако наше визуальное восприятие универсально: что живопись, что светописи. Как пикториалист я оглядываюсь на законы восприятия, наверное, больше, чем фотограф прессы, хотя в последние годы, как ни странно, использую и опыт пресс-фотографии. Для одних фотография – способ самовыражения, для других – возможность наблюдения за действительностью, для третьих – средство заработать.
Что фотография для Вас? Почему Вы ею занимаетесь?
По генерации я – клубный фотограф, свободнее не бывает. В нашем и в западном понимании – любитель в чистом виде, потому что фотографией почти не зарабатываю. Когда я делал первые светописные шаги, мне очень хотелось создавать изображения, – глубокие и гармоничные, ценные в моих глазах независимо от авторства. С тех пор мало что переменилось. Как куратор многих выставок Вы знаете, почему одну фотографию включают в экспозицию, а другую откладывают в сторону.
Что должно быть в фотографии, чтобы её увидели миллионы?
Первое и главное, на что я смотрю, – есть ли у фотографии форма. Нет формы, – нет фотографии как художественного произведения. Кстати, для фотографа настолько существенно чувство композиции, что я могу утверждать необычайно дерзкую вещь: в среднем(!) у состоявшихся фотографов композиция явно лучше, чем у состоявшихся живописцев. Очевидно, потому что у живописцев достаточно много других изобразительных средств. У фотографа же, если нет композиции, значит, нет вообще ничего. Однако композиция – не единственное, что должно быть в фотографии. Решающе важно, насколько форма сообразна сюжету. Что можно «вычитать» из данной фотографии? Насколько её тема совпадает с идеей выставки? Окажется ли сюжет новым для зрителя? Вписывается ли фотография в экспозицию визуально? Бывает, не хватает какой-нибудь смысловой перебивки или просто яркого пятна. Работа куратора-экспозиционера настолько симфонична, что ему, наверное, стоило бы изучать оркестровые партитуры. Для меня здесь бесценным стал зрительский опыт в немом кино с его ключевым понятием «монтаж».
Впрочем, мои взгляды на фотографию со временем менялись…
В зависимости от чего?
В зависимости от фотографического и человеческого опыта. На первоначальном этапе фотография была для меня прежде всего формой. Потом, глядя больше не на свою фотографию, а на чужую, я начал различать в ней драматургию, стал расширяться ценностный круг сюжетов, стилей, жанров, направлений. Теперь, двадцать пять лет спустя, могу сказать, что для меня не только в фотографии, в искусстве вообще, самое интересное – это тайна. Фотография по природе своей – таинственный проводник от натуры к зрителю. Это свойство и выделяет её в ряду других изобразительных искусств, может быть, потому, что у фотографа меньше возможностей вмешиваться в изображение, но при этом величайшая иллюзия – думать, что фотография изображает натуру так, как мы её видим! Она – документ лишь в том смысле, что свидетельствует о наличии натуры. Образ предмета – прерогатива фотографа. Мистика вневременного в этом образе для меня – самое интересное. И в своих работах, и в чужих. Если говорить об оптическом пикториализме – фотографии, сделанной мягкорисующей оптикой, то у неё особый мистический ключ. Если обычную фотографию можно считать проводником от натуры к зрителю, то оптический пикториализм – это мистический сверхпроводник.
Когда Вы снимаете крестный ход, не испытываете неловкости: молитва – процесс интимный, при такой съёмке надо проявлять особую деликатность?
Ловкость или неловкость, если, конечно, фотограф не хам, зависит от того, в церкви он сам или вне её. Если он – человек церкви – одно, если, как у нас говорят, «наёмник» – другое. Но первый должен непременно осознать свой труд как служение, и тогда – «Дерзай, чадо!», а второму, хоть он сто раз профессионал, никогда не понять, на что стоит глядеть, на что – нет, ибо внешнее в церкви – ещё не церковь. Впрочем, деликатность, как и знание предмета съёмки, – о чём мы забываем чаще всего, – обязательны для всех. Известную неловкость на крестном ходе первое время я очень даже ощущал, и, несомненно, настораживал других. Но через год сам отснятый материал, автором которого я себя ни секунды не считал и не считаю, заставил меня осознать сей труд как долг, вменённый свыше. И в дальнейшем, понятно, не задевая личностей, через деликатность приходилось переступать, а иногда снимать и вопреки собственному желанию. Однако несколько лет я был единственным, кто приезжал на Вятку из Москвы, – а это аргумент. Когда окружающим стало ясно, что я прежде паломник, а потом уже фотограф, то и отношение ко мне стало более спокойным. Позже оно испортилось ко всем фотографам вообще, поскольку там появилось несколько иностранцев и совсем явных профессионалов-москвичей, которые стали серьёзным раздражающим фактором.
Раздражение возникает потому, что съёмка ведётся явно с коммерческой целью?
С подозрительной целью, – во-первых, и здесь ещё сильны страхи времён гонений на церковь, и то, что снимают посторонние, – во-вторых. К своим и непрофессионалам отношение куда как более мирное. Нужно также понимать, что фотограф этому, как вы сказали, «интимному процессу» – молитве – не мешать не может, поэтому не просто вживание в церковь, но и минимизация средств, – в смысле шума и объемов аппаратуры, – необходима здесь как нигде. Не могу не сказать, уже как человек церкви, что были несправедливости и по отношению к фотографам, – увы, «по маловерию нашему».
Вы начали говорить о мистике в фотографии: на Востоке, например, люди не разрешают их фотографировать – считается, что снимок отнимает частичку души. Вы тоже приверженец мистической точки зрения?
Известно, что существуют экстрасенсы, способные по маленькой фотографии понять, жив человек или нет. Некоторые могут сказать, когда человек умер. Я даже знаю случай, когда сказали, кто человеку в этом «помог», глядя на фотографию ушедшего. Прецедент в данном случае – доказательство. Какая-то часть человека, несомненно, переходит на изображение, но теряет при этом человек или приобретает – это ещё вопрос. Все зависит от того, кто снимает, и что снимает. Если с любовью и во славу Божью – какие потери? Для христиан никаких запретов на фотографию в опыте церкви нет – скорее, наоборот. Фотография появилась на Афоне – не где-нибудь! – уже в 1856 году, и привёз её туда один из санкт-петербургских профессоров. Огромный фотоархив Святой Горы создан трудами монахов русского Свято-Пантелеймонова монастыря. На нашем «северном Афоне» – Валааме в начале XX века над фотографией трудились 18 монахов – целый фотоцех! Великие святые – Амвросий Оптинский, Иоанн Кронштадский, Силуан Афонский – фотографировались совершенно свободно. Феофан Затворник сохранил фотоаппарат даже в затворе! Среди его обширного инструментария, – слесарного, столярного, художественного, – был и фотографический аппарат. То есть, святые, духовный опыт которых вне сомнения, ничуть не страшились фотографии. В конце концов, без воли Божьей с нами ничего дурного не произойдёт, кто ни напади – нечисть или фотограф. «Боящийся несовершен в любви», – сказал апостол Иоанн.
Бывает, что Вы как фотограф не любите других фотографов, – тех, например, кто исповедует другую фотографию или снимает крестный ход в коммерческих целях?
У меня нет и не будет никаких фобий по отношению к другим фотографам. Если кто-то фотографию «использует», мне скорее его жаль. Другое дело результаты: многое из того, что мы сегодня видим, – пошло, омерзительно, непристойно. Сплошь и рядом это обложки журналов. Некоторые труды, в том числе таких знаменитостей, как недавно представленный в Доме фотографии японец, заставляют думать, что фотография по своей мерзости уже составляет конкуренцию телевидению!
Вам не кажется, что сегодня фотография в большей степени используется для зарабатывания денег, нежели для создания художественных произведений?
Но ведь это, увы, её почти родовое свойство. Фотографию очень рано начали «использовать». Как художественное произведение она во все времена должна была отстаивать себя, доказывая своё право на жизнь. И не только в России – во всем мире художники светописи творчеством ничего не зарабатывали, и прекрасно – тем свободнее они были. Другое дело, что за рубежом позднее за фотокартины начали платить. Нам в России это не грозит, но творчества от этого не убудет. Кстати, не припомню, чтобы кому-то удавалось соединить бизнес и творчество. Даже великие – Лобовиков, Андреев, Судек – держали свои ателье только для того, чтобы свести концы с концами, и ничего в них не творили.
Вы разделяете фотографические жанры на высокие и низкие? Например, о спортивном или социальном репортаже нередко говорят, что фотографу важно лишь оказаться в нужное время в нужном месте…
Для меня как зрителя наибольшую ценность и, соответственно, возможность наибольшей глубины представляют жанры, которые обращены к природе и к человеку как вершине Творения. Здесь возможность таинственного наполнения представляется мне наибольшей, а в человеке – максимальной. Исчезновение портрета как жанра, – а он исчез, смею это утверждать, – свидетельствует о его сложности и особенности. За всю жизнь я не встречал фотографа, который всецело посвятил бы себя портрету как жанру, – не внутри какого-то проекта, не с какой-то определённой целью, – а всю жизнь снимал бы людей, причём, не фото на память, а именно портреты. Портрет я выделяю особо. Что касается других жанров или направлений в фотографии, то думаю, что одно профессиональное занятие по лёгкости или сложности не отличается от другого. Повсюду есть выдающиеся результаты, которые требуют исключительной квалификации и чрезвычайного больших усилий, по крайней мере, на этапе становления фотографа и овладения мастерством. Один французский фотограф, – к сожалению, не помню его имени, – объездил полмира и выпустил девять книг о природе. Это невероятные усилия в экспедициях, можно сказать, подвиги ради того, чтобы попасть в определённые места, и – настоящие изобразительные шедевры! Он снимает цветы, птиц и другие природные феномены. Казалось бы, обезьян можно сфотографировать и в зоопарке, но он снимает невиданное. Назвать это лёгким жанром невозможно. Вспомним некоторые снимки десятилетней давности от наших корифеев спортивной фотографии. Для того, чтобы сделать такие кадры, нужны были годы наблюдений! Необычайная снайперская точность, улавливание пластики, которая наиболее полно выражает данное спортивное событие. Ничего простого здесь нет. В этом смысле я не выделяю и портрет. Думаю, нужны равные усилия для того, чтобы научиться изображать человеческое лицо, так же хорошо, как и природу, например. Только на ландшафте у фотографа должно быть симфоническое мышление, а в портрете, скорее, камерное, но с такими нюансами, которых нет больше нигде.
В экспедициях Вам часто приходилось преодолевать дискомфорт, лишения, трудности? Одну фотографию можно за день сделать в студии, а за другой надо идти сотни километров…
Северные экспедиции совершались тогда, когда за плечами был длительный туристический опыт, причём серьёзных путешествий, поэтому заметного дискомфорта я не испытывал. Конечно, таскание аппаратуры и жизнь почти без сна – это нелегко. Крестный ход – не только для меня, для всех идущих – немалый телесный подвиг, а фотография – дополнительная нагрузка, если бегать и снимать, в то время как остальные отдыхают. Это тяжело физически, но ничего сверхъестественного преодолевать не приходилось. Вообще, всякая экспедиция – это труд. В этом смысле, работать в павильоне, несомненно, комфортнее. Но там есть другие сложности.
Когда паломники совершают крестный ход, они действительно питаются только хлебом и водой?
Да. Большинство идущих – будущие причастники, поэтому три дня – строгий пост и 90 километров пути. Спать приходится по два-три часа в сутки. Чем меньше ешь, тем легче идти. Особых трудностей в этом нет. Если есть сухари или зерновой хлеб и пить воду, это облегчает жизнь, а не затрудняет её. Если ничего не есть совсем, недосыпание переносится легче, всё легче…
В ста метрах от места, где мы, сидя на лавочке, беседовали о фотографии, громыхала Тверская, – с её сиренами, пробками, иномарками и автосигнализациями. Я слушала этого человека и думала: откуда он? Из какой жизни? Во всяком случае, не из той суеты, которая сейчас на расстоянии ста метров проносится мимо. При такой внутренней жизни только и можно, наверное, служить сторожем в храме и сосредотачиваться на творчестве.
Часть третья
О портрете
О портрете
«С техникой всё очень просто!»
Вы обещали показать портреты…
В северные экспедиции я всегда возил портретную студию, поэтому некоторые северяне остались на портретах. При съёмке и портрета, и пейзажа моя задача состоит в том, чтобы освободить от признаков времени всё, на что смотрит моя камера. «Проломить время», как я говорю. В портрете это главное.
В чём состоят особенности технического исполнения Ваших работ?
Всё снято самодельными однолинзовыми объективами – моноклями, в этом смысле фотографии особенные. Единственное исключение, не монокль – сложный многолинзовый объектив 20 мм, вроде «Руссара», выломанный из какого-то прибора и раздиафрагмированный. Мои подробные статьи об однолинзовых объективах опубликованы в журналах «Советское Фото» за 1988 год. Никаких секретов здесь нет. Неповторимость авторского отпечатка не в технике. Например, когда речь идёт об изображении тонкого переходного состояния природы, очень трудно попасть в тон. Чуть плотнее – забиваются тени, чуть светлее – таинственность убежала. Поэтому большинство моих фотографий не имеет дублей, лишь некоторые сюжеты – одну-две копии. Что касается студии – один большой зонт с одним ФИЛом и мощным «пилотом», подсвечивающий экран из белой «пенки» и самодельные фоны. Все! Монокль на зените 3М 1963 года. Материалы – самые обыкновенные, стандартный позитивный проявитель, негативный – довольно редкий, но это тоже не принципиально. С техникой всё очень просто!
«Освободить от признаков времени», – Вы говорите. Но разве конкретные временные детали не характеризуют человека, его судьбу? Мне кажется, взятый вне времени человек выглядит абстрактным, а детали привносят в его характер неповторимые черты.
Несомненно так, но именно этих деталей я не хочу в нём видеть! Человек – бездна, незамкнутая во времени. Каждый раз мне хочется создать образ вне грубой и всегда упрощающей нас конкретики. Мне интересно вытащить из человека нечто сверх того, что он представляет собой как мой современник. Когда мы видим портрет бабушки, потерявшей на войне сына, мужа, на её лице печать конкретных событий. Да, но бабушки в нашей стране, да и по всей нашей круглой Земле, горевали во все времена и по самым разным поводам. Моя тема в этой ситуации скорее была бы связана не с войной, а с человеческой скорбью как следствием нашей безумной грешной жизни.
Что в таком случае Вы понимаете под «вневременным»? Что интересует Вас в человеке, который жил тысячу лет назад и живёт теперь?
В человеке меня интересует то, что можно было бы назвать образом и подобием Божьим. Глубина, космос, тайна есть в каждом. Если этого нет, мне не только создавать, но и смотреть на такие работы неинтересно. Есть яркие изображения людей с острой реакцией на событие, изображения человека в разных ситуациях, – всё это частности. Меня интересует состояние внутреннего зрения и внутренних переживаний, которые раздвигают рамки внешнего. Каждый образ для зрителя – тайна. Указать на эту тайну и приоткрыть её мне интересно и как фотографу, и как зрителю. Лица на Ваших портретах излучают печаль, усталость, скорбь, а приходилось ли Вам видеть в людях радостное, светлое? Конечно. Более того, с возрастом и углубляющимся воцерковлением я хочу показывать больше светлого и радостного. Скорбное и печальное всё реже появляется на моих фотографиях, хотя не исчезает совсем, потому что в этом, в сущности, свидетельство человеческой глубины: когда человек смотрит внутрь себя, он неизбежно находит там печальное. Однако сегодня лёгкого, иногда даже весёлого, в моих работах намного больше.
Сколько времени Вам нужно на то, чтобы снять портрет?
Прежде я отмечаю лицо, несущее в себе образ, который может быть раскрыт. Далеко не с каждым человеком это возможно. На иных я смотрел в течение нескольких лет, прежде, чем решился предложить съёмку. Найти лицо, которое выражало бы нечто сверх того, что в человеке лежит на поверхности, довольно сложно. Речь идёт о соотношении временного и вневременного в одном лице, что и определяет: быть ему неким образом на портрете или нет. Очевидно, моя внутренняя память замыкается с этим лицом, и тогда я могу попросить человека позировать. Остальное происходит в студии. Обычно процесс длится несколько часов.
Как Вы располагаете к себе человека, – наверное, разговариваете?
И подолгу разговариваю! В разговорах, расспросах проявляется естественный интерес к личности, и встречное отношение я ощущаю не по словам, а по тону и взгляду. Расположение модели к фотографу основано на расположении фотографа к модели. Поэтому у фотографа должно возникать чувство, которое точнее всего обозначается словом «любовь». Если этого нет, – работа бессмысленна. И так каждый раз. К каждому портретируемому. Я никогда не снимаю человека заведомо мне чуждого. За много лет был один случай, в заказной работе, когда пришлось себя преодолевать, и я оттаял, иначе, снимать бы не смог.
Вас чем-то тревожит современная ситуация в фотографии? Возможно, Вы хотели бы что-то сказать коллегам или тем, кто только вступает на путь фотографии?
Состояние культуры, – а она представляет собой проекцию состояния мира, – таково, что ценности, которые были у людей раньше и ещё держали их в человеческом облике, сегодня разрушаются и исчезают. Наибольшей разрушительной силой обладает телевидение. Несомненно, к этому уже причастна и фотография. Искать здесь виновников бессмысленно. Бороться бесполезно. Бороться надо только с собственными грехами. Единственное, что могут и должны делать люди культуры – пытаться соединить времена. Сегодня они находятся в положении Робинзонов, задача которых – написать посильный текст, найти для него прочную бутылку, надежно её закупорить и бросить подальше в отлив, так, чтобы она не разбилась о рифы. Кто её выловит, откроет и прочтёт – уже не их дело. Но нужно стараться делать это, пока есть возможность и время. Именно поэтому я ещё иногда выступаю, таскаю на показ единственные оригиналы, хотя понимаю их ценность. Не считаю себя, – прошу мне поверить, – их автором. Просто в жизни они оказались мне подарены. Не пытаюсь издать, понимая, что это уже не моё. Моё дело – сохранить. И по возможности говорить и показывать. Это мои бутылки, которые я бросаю в отлив, стараясь заполнить их получше.
Тем, кто вступает на путь фотографии, могу сказать, что я за них радуюсь и настойчиво советую не ужасаться тому, что окружает их в фотографии. Всё постороннее ей уйдёт в область рекламы, компьютеров и всякой выдумки, которая, скажем, была характерна для фотографии 70-80-х годов. Все эти глупости будут взяты на себя другими искусствами и прикладными задачами: например, то, что раньше создавалось в фотолаборатории ценой невероятных усилий, сейчас достигается нажатием одной клавиши в компьютере. Фотография развивается и плотно упаковывается в свою золотую нишу. В культуре будущего она займёт особое, единственное в своём роде место. Чёрно-белая фотография станет изобразительным искусством фотографирования с натуры. Всё, что происходит сейчас в фотографическом мире, в эту нишу её и заталкивает. И слава Богу! По крайней мере, в той области, где я могу считаться специалистом, – в оптическом питориализме, – оптические разработки только начинаются! Изображением по-настоящему ещё мало кто занимался, здесь столько неоткрытого, таинственного и, если угодно, Божественного, что молодым можно только позавидовать! Но нужно понимать, что ни один из готовых путей, которые сейчас перед глазами, для этого не годится.
В северные экспедиции я всегда возил портретную студию, поэтому некоторые северяне остались на портретах. При съёмке и портрета, и пейзажа моя задача состоит в том, чтобы освободить от признаков времени всё, на что смотрит моя камера. «Проломить время», как я говорю. В портрете это главное.
В чём состоят особенности технического исполнения Ваших работ?
Всё снято самодельными однолинзовыми объективами – моноклями, в этом смысле фотографии особенные. Единственное исключение, не монокль – сложный многолинзовый объектив 20 мм, вроде «Руссара», выломанный из какого-то прибора и раздиафрагмированный. Мои подробные статьи об однолинзовых объективах опубликованы в журналах «Советское Фото» за 1988 год. Никаких секретов здесь нет. Неповторимость авторского отпечатка не в технике. Например, когда речь идёт об изображении тонкого переходного состояния природы, очень трудно попасть в тон. Чуть плотнее – забиваются тени, чуть светлее – таинственность убежала. Поэтому большинство моих фотографий не имеет дублей, лишь некоторые сюжеты – одну-две копии. Что касается студии – один большой зонт с одним ФИЛом и мощным «пилотом», подсвечивающий экран из белой «пенки» и самодельные фоны. Все! Монокль на зените 3М 1963 года. Материалы – самые обыкновенные, стандартный позитивный проявитель, негативный – довольно редкий, но это тоже не принципиально. С техникой всё очень просто!
«Освободить от признаков времени», – Вы говорите. Но разве конкретные временные детали не характеризуют человека, его судьбу? Мне кажется, взятый вне времени человек выглядит абстрактным, а детали привносят в его характер неповторимые черты.
Несомненно так, но именно этих деталей я не хочу в нём видеть! Человек – бездна, незамкнутая во времени. Каждый раз мне хочется создать образ вне грубой и всегда упрощающей нас конкретики. Мне интересно вытащить из человека нечто сверх того, что он представляет собой как мой современник. Когда мы видим портрет бабушки, потерявшей на войне сына, мужа, на её лице печать конкретных событий. Да, но бабушки в нашей стране, да и по всей нашей круглой Земле, горевали во все времена и по самым разным поводам. Моя тема в этой ситуации скорее была бы связана не с войной, а с человеческой скорбью как следствием нашей безумной грешной жизни.
Что в таком случае Вы понимаете под «вневременным»? Что интересует Вас в человеке, который жил тысячу лет назад и живёт теперь?
В человеке меня интересует то, что можно было бы назвать образом и подобием Божьим. Глубина, космос, тайна есть в каждом. Если этого нет, мне не только создавать, но и смотреть на такие работы неинтересно. Есть яркие изображения людей с острой реакцией на событие, изображения человека в разных ситуациях, – всё это частности. Меня интересует состояние внутреннего зрения и внутренних переживаний, которые раздвигают рамки внешнего. Каждый образ для зрителя – тайна. Указать на эту тайну и приоткрыть её мне интересно и как фотографу, и как зрителю. Лица на Ваших портретах излучают печаль, усталость, скорбь, а приходилось ли Вам видеть в людях радостное, светлое? Конечно. Более того, с возрастом и углубляющимся воцерковлением я хочу показывать больше светлого и радостного. Скорбное и печальное всё реже появляется на моих фотографиях, хотя не исчезает совсем, потому что в этом, в сущности, свидетельство человеческой глубины: когда человек смотрит внутрь себя, он неизбежно находит там печальное. Однако сегодня лёгкого, иногда даже весёлого, в моих работах намного больше.
Сколько времени Вам нужно на то, чтобы снять портрет?
Прежде я отмечаю лицо, несущее в себе образ, который может быть раскрыт. Далеко не с каждым человеком это возможно. На иных я смотрел в течение нескольких лет, прежде, чем решился предложить съёмку. Найти лицо, которое выражало бы нечто сверх того, что в человеке лежит на поверхности, довольно сложно. Речь идёт о соотношении временного и вневременного в одном лице, что и определяет: быть ему неким образом на портрете или нет. Очевидно, моя внутренняя память замыкается с этим лицом, и тогда я могу попросить человека позировать. Остальное происходит в студии. Обычно процесс длится несколько часов.
Как Вы располагаете к себе человека, – наверное, разговариваете?
И подолгу разговариваю! В разговорах, расспросах проявляется естественный интерес к личности, и встречное отношение я ощущаю не по словам, а по тону и взгляду. Расположение модели к фотографу основано на расположении фотографа к модели. Поэтому у фотографа должно возникать чувство, которое точнее всего обозначается словом «любовь». Если этого нет, – работа бессмысленна. И так каждый раз. К каждому портретируемому. Я никогда не снимаю человека заведомо мне чуждого. За много лет был один случай, в заказной работе, когда пришлось себя преодолевать, и я оттаял, иначе, снимать бы не смог.
Вас чем-то тревожит современная ситуация в фотографии? Возможно, Вы хотели бы что-то сказать коллегам или тем, кто только вступает на путь фотографии?
Состояние культуры, – а она представляет собой проекцию состояния мира, – таково, что ценности, которые были у людей раньше и ещё держали их в человеческом облике, сегодня разрушаются и исчезают. Наибольшей разрушительной силой обладает телевидение. Несомненно, к этому уже причастна и фотография. Искать здесь виновников бессмысленно. Бороться бесполезно. Бороться надо только с собственными грехами. Единственное, что могут и должны делать люди культуры – пытаться соединить времена. Сегодня они находятся в положении Робинзонов, задача которых – написать посильный текст, найти для него прочную бутылку, надежно её закупорить и бросить подальше в отлив, так, чтобы она не разбилась о рифы. Кто её выловит, откроет и прочтёт – уже не их дело. Но нужно стараться делать это, пока есть возможность и время. Именно поэтому я ещё иногда выступаю, таскаю на показ единственные оригиналы, хотя понимаю их ценность. Не считаю себя, – прошу мне поверить, – их автором. Просто в жизни они оказались мне подарены. Не пытаюсь издать, понимая, что это уже не моё. Моё дело – сохранить. И по возможности говорить и показывать. Это мои бутылки, которые я бросаю в отлив, стараясь заполнить их получше.
Тем, кто вступает на путь фотографии, могу сказать, что я за них радуюсь и настойчиво советую не ужасаться тому, что окружает их в фотографии. Всё постороннее ей уйдёт в область рекламы, компьютеров и всякой выдумки, которая, скажем, была характерна для фотографии 70-80-х годов. Все эти глупости будут взяты на себя другими искусствами и прикладными задачами: например, то, что раньше создавалось в фотолаборатории ценой невероятных усилий, сейчас достигается нажатием одной клавиши в компьютере. Фотография развивается и плотно упаковывается в свою золотую нишу. В культуре будущего она займёт особое, единственное в своём роде место. Чёрно-белая фотография станет изобразительным искусством фотографирования с натуры. Всё, что происходит сейчас в фотографическом мире, в эту нишу её и заталкивает. И слава Богу! По крайней мере, в той области, где я могу считаться специалистом, – в оптическом питориализме, – оптические разработки только начинаются! Изображением по-настоящему ещё мало кто занимался, здесь столько неоткрытого, таинственного и, если угодно, Божественного, что молодым можно только позавидовать! Но нужно понимать, что ни один из готовых путей, которые сейчас перед глазами, для этого не годится.
Куда держит курс экспедиция Колосова? На Север или на Юг? В прошлое или в будущее? Погружается в глубину человеческой души или отправляется в космос, не страшась его бесконечности? Нам сегодня трудно ответить на эти вопросы. Если бутылка не разобьётся о рифы, её содержимое станет достоянием потомков. Им и предстоит определять направление…